Войны Суверенитета
Из предыдущего изложения видно: даже элементарная классификация институтов вооружает исследователей и социальных инженеров широким спектром понятийных инструментов. Притом, что мы пока имеем дело только с первоэлементами институциональных абстракций, с азбукой, из знаков которой ещё предстоит составить слова, затем – предложения.
Притом, что мы пока имеем дело только с первоэлементами институциональных абстракций, с азбукой, из знаков которой ещё предстоит составить слова, затем – предложения. В теле любого конкретного общества институты не просто сосуществуют – они опираются друг на друга, конфликтуют, заключают многосторонние коалиции, ведут многоходовые рефлексивные игры. Проводя аналогию, можно говорить про своего рода институциональную «химию» и «биологию» – с той существенной разницей, что атомы в ней являются игроками, а молекулы – коалициями игроков.
Но в картине мира, доставшейся нам от позапрошлого века, на месте собственности как системы отчуждённых институтов зияет провал, в его пустоте болтаются две тощих абстракции, «Левиафан» и «Невидимая рука», чьи словесные оболочки позаимствованы из двух великих трактатов XVII и XVIII века. Как будто нет и никогда не существовало ни Гегеля, ни младогегельянца Маркса.
Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны.И Греция цветет могилами,
Как будто не было войны.
А мы — Леонтьева и Тютчева
Сумбурные ученики —
Мы никогда не знали лучшего,
Чем праздной жизни пустяки.
Академические знания об институтах в обществе либо начисто отсутствуют, либо переживают фазу раннего младенчества. Бытующее представление о «бизнесе» – первая попытка с черного хода втащить игру в круг добродетельных хозяйственных занятий, пристроить в один ряд с хлебопашеством и ремёслами. Хозяину мануфактуры дозволяется в рабочее время поиграть в рыночную рулетку – на том основании, будто «невидимая рука» снабжена божественной добродетелью направлять корыстные частные порывы ко всеобщему благу. (Эта идеологема принадлежит, кстати, не Адаму Смиту, а его недобросовестным интерпретаторам).
Что касается государства-Левиафана, игры с ним вообще считаются неуместными, клеймятся как коррупция, бюрократизм или кумовство. Весь этот институт видится порождением зла, которое, за невозможностью искоренить, надо загнать в резервацию «ночного сторожа». А если не получается – находятся политметодологи, усматривающие, к примеру, его в чреве «разделение властей» на некие ветви, которые можно науськать друг на друга, дабы отвлечь чудище от наездов и внеплановых проверок.
С таким дошкольным интеллектуальным багажом невозможен транзит в новую социальную эпоху. С ним не выкарабкаться из предыстории – среды обитания трудолюбивого Homo Faber, из общества платоновских ремесленников, узников собственности, наивно воображающих, будто это они её имеют, а не она их. Не пробиться в новый мир Homo Ludens, человека Играющего, в социум платоновских стражей, поэтапно овладевающих стихией институтов собственности, чтобы превратить её чуждую силу в свою.
Homo Ludens – не напёрсточник и не карточный шулер. Он профессионально играет в институты, с институтами и посредством институтов. Играет всерьёз и надолго, на целую эпоху. Шаг за шагом каждый из них он «опредмечивает»: превращает из неконтролируемого источника трансакционных норм, директив и правил – в предмет рационального освоения и технологизации.
Но в картине мира, доставшейся нам от позапрошлого века, на месте собственности как системы отчуждённых институтов зияет провал, в его пустоте болтаются две тощих абстракции, «Левиафан» и «Невидимая рука», чьи словесные оболочки позаимствованы из двух великих трактатов XVII и XVIII века. Как будто нет и никогда не существовало ни Гегеля, ни младогегельянца Маркса.
Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны.И Греция цветет могилами,
Как будто не было войны.
А мы — Леонтьева и Тютчева
Сумбурные ученики —
Мы никогда не знали лучшего,
Чем праздной жизни пустяки.
Академические знания об институтах в обществе либо начисто отсутствуют, либо переживают фазу раннего младенчества. Бытующее представление о «бизнесе» – первая попытка с черного хода втащить игру в круг добродетельных хозяйственных занятий, пристроить в один ряд с хлебопашеством и ремёслами. Хозяину мануфактуры дозволяется в рабочее время поиграть в рыночную рулетку – на том основании, будто «невидимая рука» снабжена божественной добродетелью направлять корыстные частные порывы ко всеобщему благу. (Эта идеологема принадлежит, кстати, не Адаму Смиту, а его недобросовестным интерпретаторам).
Что касается государства-Левиафана, игры с ним вообще считаются неуместными, клеймятся как коррупция, бюрократизм или кумовство. Весь этот институт видится порождением зла, которое, за невозможностью искоренить, надо загнать в резервацию «ночного сторожа». А если не получается – находятся политметодологи, усматривающие, к примеру, его в чреве «разделение властей» на некие ветви, которые можно науськать друг на друга, дабы отвлечь чудище от наездов и внеплановых проверок.
С таким дошкольным интеллектуальным багажом невозможен транзит в новую социальную эпоху. С ним не выкарабкаться из предыстории – среды обитания трудолюбивого Homo Faber, из общества платоновских ремесленников, узников собственности, наивно воображающих, будто это они её имеют, а не она их. Не пробиться в новый мир Homo Ludens, человека Играющего, в социум платоновских стражей, поэтапно овладевающих стихией институтов собственности, чтобы превратить её чуждую силу в свою.
Homo Ludens – не напёрсточник и не карточный шулер. Он профессионально играет в институты, с институтами и посредством институтов. Играет всерьёз и надолго, на целую эпоху. Шаг за шагом каждый из них он «опредмечивает»: превращает из неконтролируемого источника трансакционных норм, директив и правил – в предмет рационального освоения и технологизации.
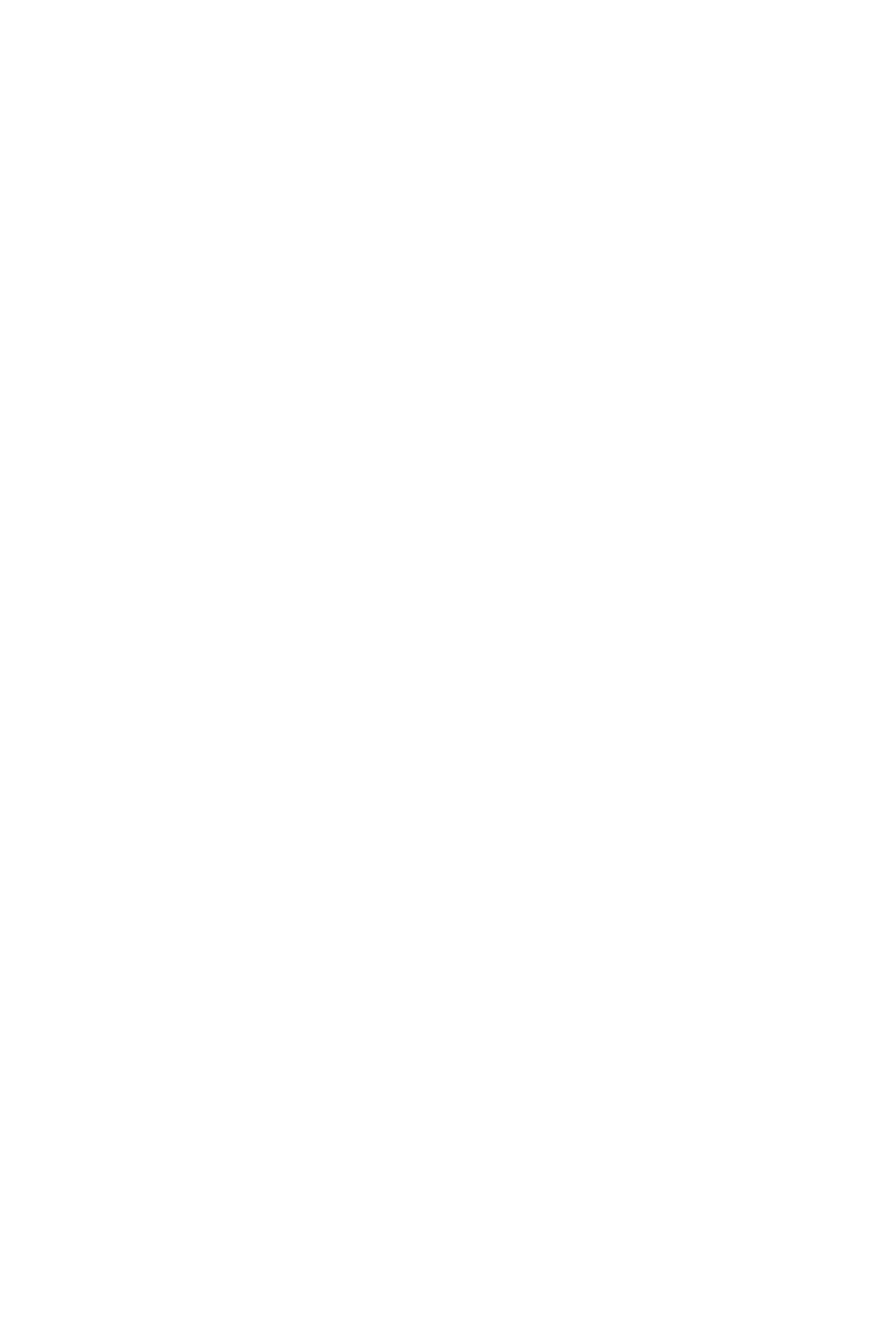
Институты не сидят на месте, пассивно ожидая инженерных действий от Homo Ludens. Их социоприродная плоть претерпевает имманентную эволюцию, живёт своей жизнью – о которой стражи (продолжая платоновскую метафору) узнают из жалоб и просьб ремесленников, погружённых в проблемную материю производства. Их идеология испытывает трансцендентное становление – о чём стражам повествуют мудрецы, вдохновенно созерцающие социальные эйдосы. Можно также сказать – перетолковывая забытого Платона на модного Талеба – что стражей попеременно атакуют то чёрные, то белые лебеди. Отвлекая их от уставной рутины институциональной службы, первые вынуждают заняться авральным ремонтом институтов, вторые – порождают инновации, побуждают к безотлагательному обновлению.
Однако в странах российского типа институты предоставлены самим себе; стражи не просто не занимаются своим делом – даже не подозревают, в чём оно состоит. Вместо этого они попеременно то служат ремесленникам, то грабят их, а чёрно-белые лебеди незримо мечутся, обдавая помётом безработных мудрецов с их никчёмными эйдосами.
Институциональные кризисы накапливаются и громоздятся друг на друга, как торосы, покуда напряжение не разряжается в социальной катастрофе. Говоря словами Бердяева, социальное благо, которому давно пришла пора воплотиться, не находит в обществе социальных инженеров, готовых и способных вовремя принять ответственность за родовспоможение. И тогда за бездеятельное дело берутся силы зла, тогда «на небесах постановляется неизбежность революции».
Однако в странах российского типа институты предоставлены самим себе; стражи не просто не занимаются своим делом – даже не подозревают, в чём оно состоит. Вместо этого они попеременно то служат ремесленникам, то грабят их, а чёрно-белые лебеди незримо мечутся, обдавая помётом безработных мудрецов с их никчёмными эйдосами.
Институциональные кризисы накапливаются и громоздятся друг на друга, как торосы, покуда напряжение не разряжается в социальной катастрофе. Говоря словами Бердяева, социальное благо, которому давно пришла пора воплотиться, не находит в обществе социальных инженеров, готовых и способных вовремя принять ответственность за родовспоможение. И тогда за бездеятельное дело берутся силы зла, тогда «на небесах постановляется неизбежность революции».
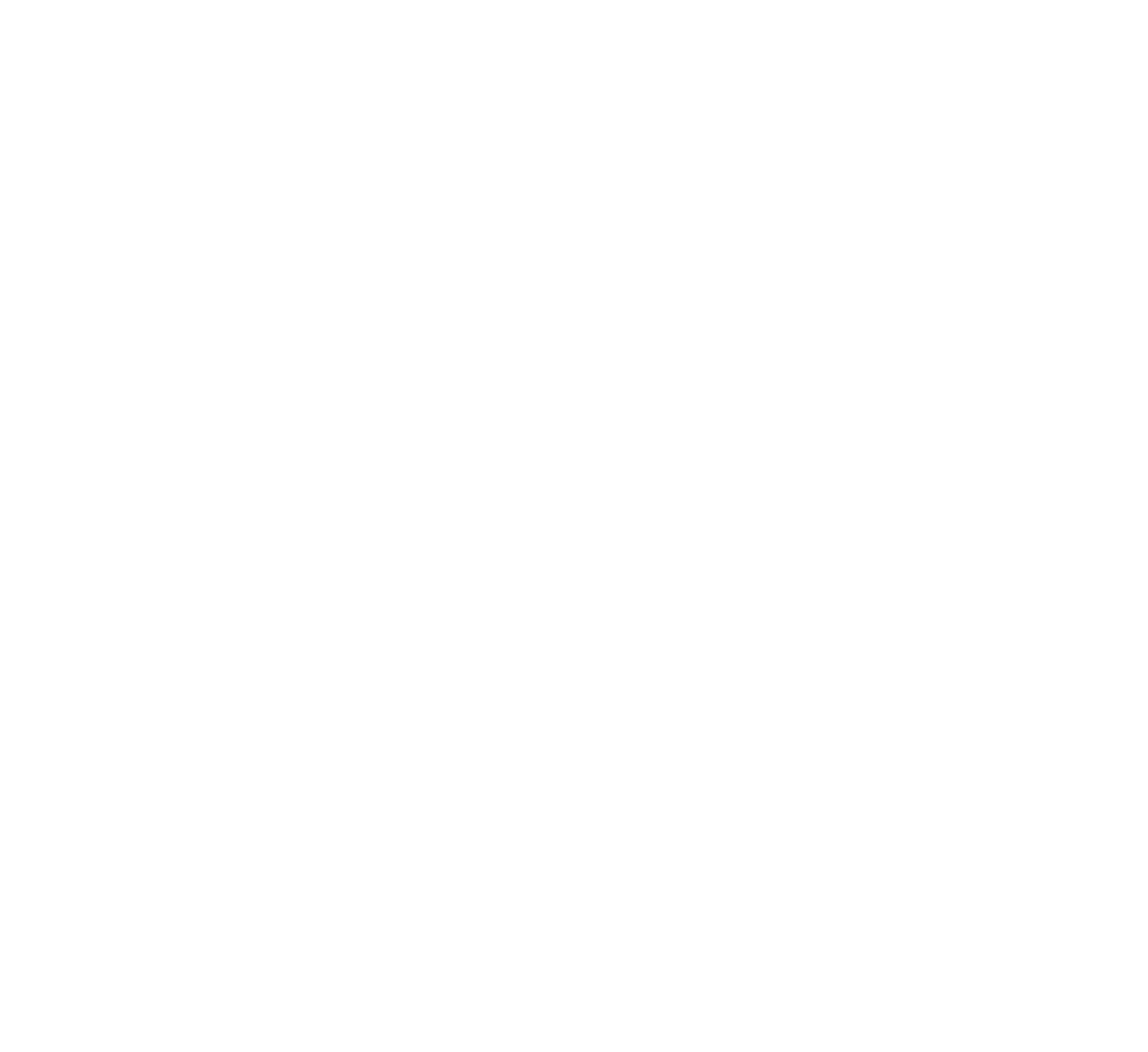
Маркс неоднократно растолковывал российским «марксистам», что в его «Капитале» содержится лишь исходная абстракция, условно приложимая разве что к сильно идеализированной экономике типа английской середины XIX века. Тем более трудно представить себе образцовый социум, где в границах одной страны была бы полностью представлена вся многослойная система институтов, в правильном порядке выросших на её почве, увенчанная капиталом. Но это и был бы утопический идеал полной суверенности, недостижимый нигде и никогда.
ХХ век даёт изобильный материал для осмысления того, как происходит эволюция и осуществляется развитие институтов. Гегелевский «мировой дух» в сожительстве с тем или иным социумом, преуспев в конструировании нового института, как правило, вскорости вынужден расторгать брак: его временный попутчик испытывает «головокружение от успехов» и, отъевшись и пригревшись, не торопится нырять в омут очередных реформ. Но здание нового института с новой пропиской нуждается в фундаменте предшествующего. Тогда вечный скиталец-дух пускается на хитрости, чтобы передать часть совместно нажитого социального материала новому избраннику. К примеру, варварский этнос, исторгаясь из гор и пустынь, прокатывается по землям цветущей страны-донора, в нагрузку к награбленному подцепляя вирусную заразу и рассаду её институтов. Или просвещённая иноязычная элита, наоборот, сознательно пытается переносить привычные институты на завоёванные земли – как это было с реформами в Птолемеевском Египте. Или тот или иной вариант «офсетной сделки», когда принимающая сторона идёт на трансплантацию в надежде локализовать недостающую технологию, а передающая ведёт рискованную игру, рассчитывая внедрить или вырастить вокруг техно-оазиса пятую колонну… Имя демонам легион.
Институциональной структуре любого современного общества закономерно свойственна чересполосица: перекрёстная зависимость, неполнота, посткризисная компенсаторика, многослойность и многоукладность.
Продолжим метафору Платона. Классические «войны ремесленников» ставили целью либо захват и присвоение территориальных, природных и иных производительных сил и ресурсов противника, либо их разрушение с целью ослабить супостата. Новейшие «войны стражей» имеют целью перехват контроля над институтами соперника, перевод под внешнее управление – либо блокировку или подрыв их функционирования. Но для того, чтобы подорвать или взять под контроль чей-то суверенитет, вовсе не обязательно нарушать границу.
Распространённые образчики подобного сорта многослойных и многоходовых операций именуются нынче «гибридной войной» и трактуются как нарушение священных правил, некий беспредел. На деле это зарождение потенциально огромного спектра форм нового вида межсубъектного взаимодействия в «эпоху стражей», не подлежащего в этом качестве однозначной оценке на шкале добра и зла. Грядёт институциональная «новая нормальность». Ценителей дуэльных кодексов и сухаревских конвенций утешить нечем.
Когда традиционные общества впервые столкнулись с ростовщичеством, оно было объявлено греховным. Позже из сомнительного зародыша вылупился и вырос с виду вполне респектабельный институт рынка. И теперь, по прошествии столетий, когда манипуляции его невидимых рук попали под наблюдение и были рассмотрены во всех подробностях, выясняется: не только в рынке, но и в любом социальном институте сосуществуют и уживаются «саранча и пчела». В этом простой житейский смысл категории «самоотчуждение», элементарными частицами которого служат открытые Коммонсом «трансакции».
Она прекрасна, эта мгла.
Она похожа на сиянье.
Добра и зла, добра и зла
В ней неразрывное слиянье.
Добра и зла, добра и зла
Смысл, раскаленный добела.
ХХ век даёт изобильный материал для осмысления того, как происходит эволюция и осуществляется развитие институтов. Гегелевский «мировой дух» в сожительстве с тем или иным социумом, преуспев в конструировании нового института, как правило, вскорости вынужден расторгать брак: его временный попутчик испытывает «головокружение от успехов» и, отъевшись и пригревшись, не торопится нырять в омут очередных реформ. Но здание нового института с новой пропиской нуждается в фундаменте предшествующего. Тогда вечный скиталец-дух пускается на хитрости, чтобы передать часть совместно нажитого социального материала новому избраннику. К примеру, варварский этнос, исторгаясь из гор и пустынь, прокатывается по землям цветущей страны-донора, в нагрузку к награбленному подцепляя вирусную заразу и рассаду её институтов. Или просвещённая иноязычная элита, наоборот, сознательно пытается переносить привычные институты на завоёванные земли – как это было с реформами в Птолемеевском Египте. Или тот или иной вариант «офсетной сделки», когда принимающая сторона идёт на трансплантацию в надежде локализовать недостающую технологию, а передающая ведёт рискованную игру, рассчитывая внедрить или вырастить вокруг техно-оазиса пятую колонну… Имя демонам легион.
Институциональной структуре любого современного общества закономерно свойственна чересполосица: перекрёстная зависимость, неполнота, посткризисная компенсаторика, многослойность и многоукладность.
Продолжим метафору Платона. Классические «войны ремесленников» ставили целью либо захват и присвоение территориальных, природных и иных производительных сил и ресурсов противника, либо их разрушение с целью ослабить супостата. Новейшие «войны стражей» имеют целью перехват контроля над институтами соперника, перевод под внешнее управление – либо блокировку или подрыв их функционирования. Но для того, чтобы подорвать или взять под контроль чей-то суверенитет, вовсе не обязательно нарушать границу.
Распространённые образчики подобного сорта многослойных и многоходовых операций именуются нынче «гибридной войной» и трактуются как нарушение священных правил, некий беспредел. На деле это зарождение потенциально огромного спектра форм нового вида межсубъектного взаимодействия в «эпоху стражей», не подлежащего в этом качестве однозначной оценке на шкале добра и зла. Грядёт институциональная «новая нормальность». Ценителей дуэльных кодексов и сухаревских конвенций утешить нечем.
Когда традиционные общества впервые столкнулись с ростовщичеством, оно было объявлено греховным. Позже из сомнительного зародыша вылупился и вырос с виду вполне респектабельный институт рынка. И теперь, по прошествии столетий, когда манипуляции его невидимых рук попали под наблюдение и были рассмотрены во всех подробностях, выясняется: не только в рынке, но и в любом социальном институте сосуществуют и уживаются «саранча и пчела». В этом простой житейский смысл категории «самоотчуждение», элементарными частицами которого служат открытые Коммонсом «трансакции».
Она прекрасна, эта мгла.
Она похожа на сиянье.
Добра и зла, добра и зла
В ней неразрывное слиянье.
Добра и зла, добра и зла
Смысл, раскаленный добела.
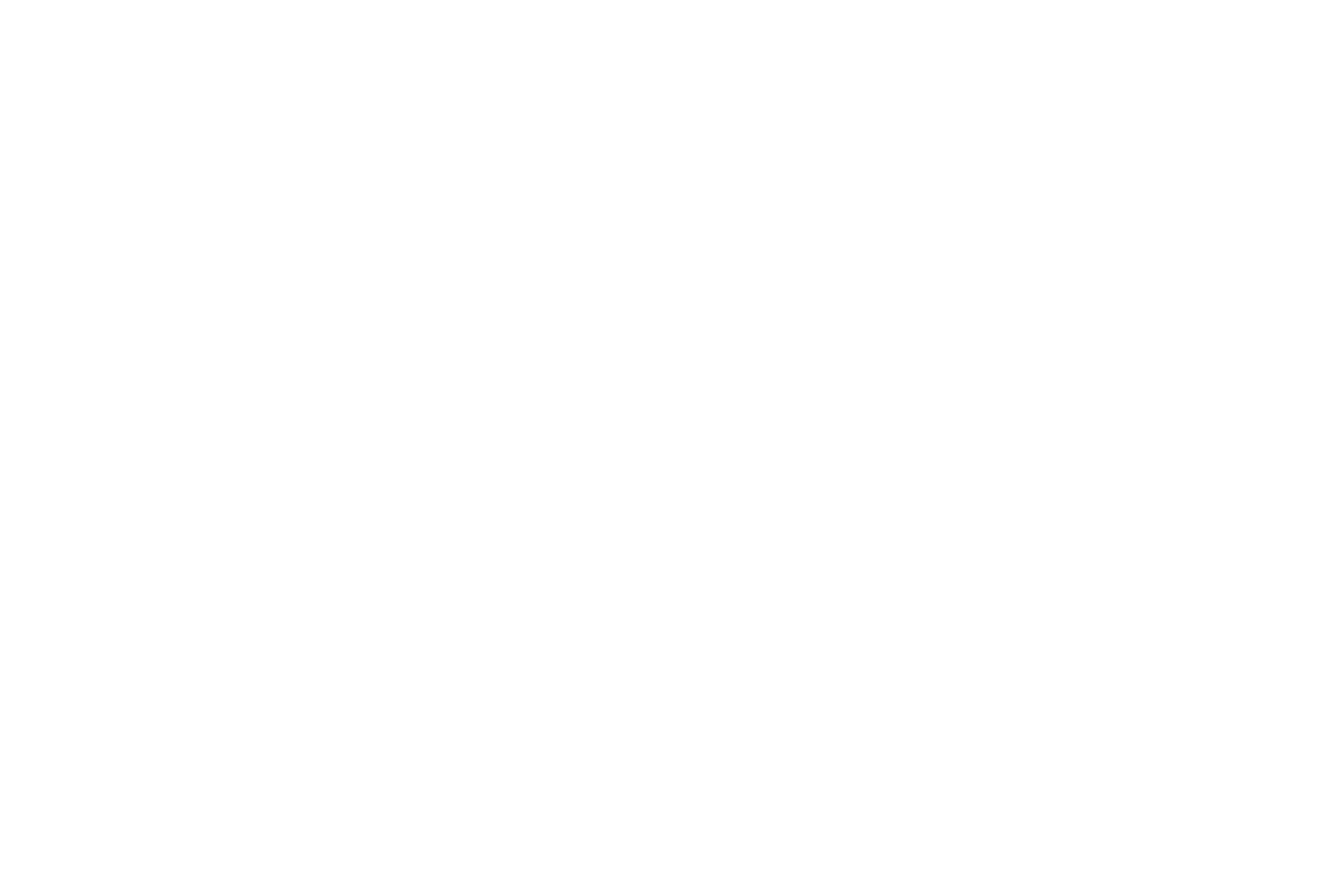
По всем вопросам свяжитесь с нами любым удобным способом:
E-mail: hello@company.com
Телефон: +123 466 567 78
Соцсети: Facebook | Instagram | Youtube
E-mail: hello@company.com
Телефон: +123 466 567 78
Соцсети: Facebook | Instagram | Youtube
© All Right Reserved. My company Inc.
e-mail us: hello@company.cc
